«Розовый Слонъ», выпуск первый
28.X.2005
- Предисловие к первому выпуску
- Василий Путилин. ***
- Антон Че. «H. S.»
- Василий Путилин. «к любимой женщине»
- Антонина Инцест. «Манифест Полиции Шерсти»
- Василий Путилин. «Улыбчивый Слюнин»
- Василий Путилин. «φ»
- Лихт Б. «Богоматерь»
- Василий Путилин. «Лизавета»

Предисловие к первому выпуску
Приводим эпиграф.

Когда в 90-е годы у нас стал складываться марксизм, революционные марксисты старались пробиться в легальную печать, чтобы через эту печать усилить свое влияние. Охоты пока никакой еще нет, и знаменитое ружье почти не вынимается из чехла. Еще пели, по-польски пели и по-русски. Регулярно ходим каждый день купаться и гулять, собираем щавель, ягоды и т. п. Писать приходилось «рыбьим языком», намеками. Это лето у нас осталась та девочка, которая жила зимой, и потому с хозяйством хлопот нет.
Н. К. Крупская.
Василий Путилин
***
Было необычайно тихо. Ни шепота ветра, ни скрипа птичьих голосов. Еще только светало. Солнце где-то поднималось, но небо было плотно застелено облаками, отчего было неясно, в какой стороне прятался красный шар. Все закрывал плотный туман, переходивший в вышине в ватные облака. На лысой пожелтевшей траве выпала обильная роса, и черная земля, видневшаяся из-под скудной растительности, а кое-где и вообще сменявшая ее, стала скользкой.
Стакан молока с осевшей грязью. Прокисшего за то время, которое оседала муть. Смрада нет. Запах кислого стоит вокруг, но для тех, кто весь плывет в молоке, кто заточен внутрь стакана, пахнет свежестью. Густеет.
Сосны. Лес. Вдалеке виднелась муравьиная фигурка, постепенно приближавшаяся сюда, к холодной реке. Ближе, еще ближе — медленно темное пятно подползало сюда, а когда оно уже было почти рядом, было можно различить два тела. Одетая в черные лохмотья девушка волокла что-то темное, сначала я даже решил, что это вязанка дров. Но это был человек. Продрогшая и вспотевшая, девушка буквально пыхтела. Когда она была совсем рядом, я слышал ее тяжелое дыхание. В холодном воздухе, среди остывшего тумана, густели клубы теплого пара, что поднимались от ее рта.
Тело мужчины, которое она тащила по земле, было недвижимо, видно было, что мужчина не дышал. Когда я смог рассмотреть его синее лицо, я понял, что не дышит он давно.
Это был мой труп. Но я не мог вспомнить, что это за девушка.
Медленно, волоча мое тело, но не замечая меня самого, она дошла до воды, после чего положила тело в воду. Аккуратно, мягко, оставив ноги на берегу, пустив круги по поверхности, но без лишнего плеска. По мутной воде красной краской проползла темная кровь; девушка почти безучастно смотрела на тело. Физически она изнемогала. Сначала она окинула взглядом пройденный путь; дорога утопала в гуще леса, шла она сюда всю ночь. Незнакомка сняла с головы черную косынку, утерла ей со лба пот.
Поднялся тихий и спокойный ветер, пустил рябь по речной глади, заиграл с волосами девушки. Черные, длинные, они затрепетали. Девушка сложила темную плотную ткань косынки в полоску, сошла по колено в воду, приподняла холодному товарищу голову и завязала ему глаза. Очень плотно.
Она сняла с ног обувь — рваные мужские башмаки. Огромные, они всю дорогу болтались на маленьких ножках, натерли мозоли. Ноги ныли. Девушка прошлась босиком по остывшей земле, холодному илу берега. Каждый шаг отзывался болью истертых и кровавящих ступней. Она стала стягивать с себя грязную одежду.
Товарищ в повязке на глазах не мог смотреть на нее; но она озиралась на него, будто проверяя, не блестят ли безжизненные, настежь открытые глаза убитого. Их не было видно. Повязку товарищ не снял. После продолжительной возни, на пустынном берегу реки светилось ее нагое тело, бледное, но очень грязное. Так блестит почерневшее серебро. Все тряпье было свалено в кучу. Девушка вошла в обжигающе-холодную воду, взяла под руки труп и медленно стащила его полностью в воду, прочертив скованными ногами две мягкие борозды в вязком иле.
Казалось, она так бы и поплыла вместе с ним…
И действительно, через узкую вялотекущую реку она перевезла мое тело, чтобы сойти на другом берегу. Медленно, пыхтя, девушка гребла в грязной воде. Холодной, заросшей водорослями, пахнущей разложением и опусканием век. На середине пути незнакомка порезала ножку жестким стеблем, скрытым под водой. Выходит на берег, на землю стекает кровь. Труп вытащен на сушу.
Синей рукой товарища растирает красную струйку, идущую от пореза. Играет. Вымазав в липкой крови свой пальчик, проводит по лицу покойника яркую линию, над глазной повязкой, на лбу. Обсасывает соль крови. Пальчик в ротик, нежно. Чмок.
Долго она искала, где меня оставить.
Быть может, она бы и потащилась, не покидая меня, волоча по земле. Однако, девушка усадила меня под широким дубом, прислонив мокрый труп к стволу. Как только она сделала это, она ощутила, что свершила что-то важное. Такое дело, по окончанию которого нужно снова искать цель жизни. Ощутив что-то особое, что невозможно понять и осмыслить, она, вся продрогшая, посиневшая, как мертвец, сидящий одиноко под деревом, нагой пошла по берегу, провожая товарища взглядом. В заросли.
Когда она уже отошла к лесу, в молочном тумане ей показалось, что на моем лице появилась еле заметная улыбка. Незнакомка вернулась и убедилась в том, что уголки холодного рта действительно исказились. Она сняла повязку с моих глаз и, склонившись, поцеловала меня.
Девушка решила, что я бы так и сидел тут, смотря на редких путников, но потом поняла, что глаза могут выклевать птицы. Веки были плотно опущены заботливыми пальцами.
Смотрю на нее. Она спокойна, но мне хочется плакать. Скупо и кратко пустить слезу. Мне очень холодно. Я хочу, чтобы она прижалась ко мне. Я хочу быть согретым. Прояви некронежность, богиня. Ей надо идти, и она оставляет меня, чтобы, быть может, вернуться сюда позже.
Долгий путь лежит вдоль воды, через лес. Деревья спускаются совсем низко, корнями стоя в иле. Тут была дорога, но дорога заросла. Идти по колящей ноги траве, по сучьям, по лужам, по дерьму, сквозь крапиву. Нагибаться под низкими сучьями, прорываться сквозь заросли. Вглубь.
Когда было уже светло, девушка дошла до вымершей деревни, уставшая и продрогшая. Только заканчивался одичавший лес, стояли редко деревянные дома. Покосившиеся, гнилые. На месте трех дворов, что были на отшибе, было безобразное пепелище, размытое дождями.
Видно было, что войти в чье-то заброшенное жилище на ночевку незнакомка боялась. В одном доме она однажды обнаружила глухонемую старуху, которая одна жила тут, как-то тихо и незаметно порою выходя, чтобы подоить корову, или втащить в жилище дрова. Да, здесь была и корова. Почти вся скотина давно еще передохла, но редкое мычание одной-единственной коровы иногда разрубало тишину. Встреча со старой женщиной сильно напугала девушку. А произошедшее вчера вообще заставило надолго избегать любые «заброшенные» строения, что были в хуторе Мертвом.
На окраине был крупный загон, где девушка (клянусь вам, не помню, как ее зовут) нашла дохлую лошадь. Свежесдохшую. Труп животного источал смрад, а внутри копошились маленькие белые червячки. И если иногда приход к каким-то истинам можно называть «просветлением», то она ощутила потемнение. Да, именно так. Она почти никогда не видела таких странных червей, лишь однажды, в мертвом воробье. И девушка пришла к выводу, что черви не могли прийти откуда-то, ощутив мертвое тело, она знала, что лошадь уродилась с этими червями внутри.
Накануне она пила отвар из белладонны, поэтому другая мысль пришла так же быстро. Девушка теперь знала, что любой человеческий мозг хранит в себе безумие изначально. И это пугало ее.
Черви щекотали мозг. Так может щекотать только нож, проворачиваемый в нанесенной им ране.
Этим утром незнакомка, нагая и беззащитная, дошла до сырого, порядком подгнившего стога сена, куда и зарылась, надолго заснув. Неясно было, кто и когда здесь косил траву, но в этом стоге она спала не в первый раз.
***
При отходе ко сну она уже понимала, что встретит меня. Живо она представила тело, сидящее под деревом, и сразу решила, что я также сплю, потому как веки ею же были старательно опущены. Невольно, уже во сне, она стала пощипывать себе соски, уголки рта немного искривились, а затем и тонкая струйка слюны маленькой гусеницей, извиваясь, вошла в стог…
Надо отметить, уже неделю она не вела дневника и не записывала своих снов в тетрадку. Чернила закончились, писать было просто нечем. Только кровью. Где-то под камнем, ближе к лесу, все еще лежала отсыревшая тетрадка с расплывшимися буквами. Я знал, что в ней было написано:
Жизнь можно представить в виде многомерного пространства Ψ, положение человека в нем определяется его решениями и устремлениями {ψ1, ψ2, ψ3, …, ψn}, но все усложняется тем, что dim Ψ → ∞.
Она сама понимала, что это не были ее мысли. Я надиктовывал их. Там еще, в заточении, она вступила со мной в особую связь и начала все записывать. Она ела много таблеток, а за одну сигарету бедняжке приходилось договариваться с уборщицей, что она вымоет пол в палате в качестве оплаты подарка.
Пол был неизменно грязным, частенько даже заблеванным. Девушка получала за труды помятую, изломанную сигарету, которую жадно потом сосала небольшими порциями.
Она не страдала, быстро довольно она нашла успокоение в том, что все происходящее — сон, а когда она засыпает, это уже сон о сне, а быть может, все изначально было сном о сне.
Сном о сне, в котором видится сон, о том, как спишь, и видится тебе сон.
В учреждении, куда ее поместили, всех уверяли в том, что помогают несчастным. Но сама несчастная не чувствовала, что все то, что вокруг кружится и копошится, может быть полезным…
Все живущее и копошащееся щекочет ей мозг. Каждый вздох кого-то рядом совершался ради пожирания мертвого.
***
Когда она очнулась в стогу, поздним днем, первое, что она сделала — проследовала по пройденному утром пути. Сквозь лес протащилась быстро. Спешила на встречу. Она обнаружила труп, застывший в одной позе под дубом, и раскрыла ему холодные веки.
Она проснулась пораньше и разбудила меня.
Долго она еще, нагая, с застрявшим в волосах сеном, сидела на траве. А потом на коленях подползла к дереву, обхватила меня и легла на землю, уложив тело сверху и крепко-крепко обняв его. Она смотрела в мои глаза, совсем пристально, разглядывая все покрасневшие сосуды и белое помутнение, появившееся после смерти.
Мы вместе.
Когда незнакомка раздвинула языком челюсть трупа, захлопнутую смертной дрогой, она ощутила запах. И это был не запах мертвого и разлагающегося. Это был едкий запах табака и спирта, запах живого.
Долго так незнакомка согревала труп. Сама она изрядно остыла, но отчего-то чувствовала, что мужское тело было очень теплым. Горячим; а роса на бледно-синем лбу убитого казалась проступившим потом. Когда она перевернулась вместе с телом и села на него сверху, она прошептала: «я буду твоей сестрой».
В деревню мы вернулись вместе. Час почти она тащила труп сквозь лес, а потом и внесла его в заброшенный дом. Вместе со мной ей было не страшно, чуть позже она даже навестила дохлую лошадь, с тем, чтобы убедиться, что черви продолжают растворять мясо.
Когда уже солнце садилось, над деревней стоял столб дыма, исходящий из бани, затопленной молодой хозяйкой для дорогого гостя. И гость сидел в бане раздетым, но вел он себя странно — от жара он почти не потел, только немного испачкал лавку кровью.
Заснули мы тут же, в теплоте. Я лежал прямо рядом с ней. Помню, мне хотелось сказать ей, что я люблю ее. Раньше я говорил это исключительно в подпитии, но и исключительно всем. А сейчас губы мои были сомкнуты, и я знал, что я не смогу больше их разомкнуть.
Все, что я хотел ей сказать, виделось ей во сне. Но показать во сне — не то же самое, что сказать. Даже шепот был бы лучше, чем мутное и тяжелое сновидение. Ничего я ей не говорил.
И так она стала мне сестрой…
***
К утру в закопченное окно бани было видно, как в осеннем воздухе кружит редкий снег. На ее лице, спокойном и умиротворенном, видна была бороздка от высохшей слезы.
Скоро на пороге появилась глухонемая старуха, с ног до головы закутанная в теплое. В ее руках были банки с медом и молоком, которые она оставила здесь, на полу. Увидев меня, она сначала немного удивилась (что выражалось во взгляде), но потом, почти спокойно, провела сморщенной рукой по моему лицу, с какой-то лаской.
Она ушла в свой дом, где занялась вязанием. Медленно из-под ее рук выползало шерстяное полотно. Она не спала уже четвертый день и очень боялась заснуть. Порою ей казалось, что сон возвращается.
Она смотрит в холодную воду, отражающую гримасы лица. Желая вывернуться прямо сюда, она просовывала глубоко в глотку пальцы, но рвота ее не душила. Она чувствовала себя так легко, что поняла, что вовсе не дышит. Знала она о том, что в желудке у нее благостный мед. Она хотела кричать «нет, неправда!», она хотела выпрыгнуть в реку, но понимала, что ей не отрыгнуть мед. Потом уже она брала дома большой нож, пахнущий рыбой, и кромсала себе живот. Больно не было, только скользкие кишки вываливались, ноги путались в них, на острие виднелось желтое меда и красное крови, оттуда летел рой мух и пчел. Ур-з-г-р-з-з-з-а-х-х-х-х!
Фрух-з-з-з-з-т-а-п-р-р-т-т-т! Оф-ф-ф-ф! Ар-р-р! Хо-н-н-н-н-т!
Аумбд-он-п-п-п-п!
Ф-ф-ф-ах-х-х. У-ф-ф-ф. Так их и так, рубить, резать кромсать, изничтожать. На мелкие кусочки, на полоски, а потом вывесить на солнце, чтобы нутро сворачивалось в тонкие жилки, чтобы это страшное светило жарило то, что выбросило. Забирай, гнида! Забирай! Забирай!
Умри, утроба вселенной, изничтожь и смолкни.
И вот, старуха понимала, что это не сон, а только воспоминание о сне. Она не могла увидеть его снова, она понимала, что живет только до тех пор, пока не уснет опять. В бане она видела двоих, мужчина спал, а девушка еще нет. И все зависело от того, пришли ли эти люди к ней, или они пришли за ней.
***
Когда моя сестра проснулась, она прошептала мне в ухо «ты хочешь любви». Спокойно так, ничего не предлагая и не спрашивая. Просто сказала, что я хочу любви. Я мог сказать многое. Но способен не был.
И скоро она усадила меня. Найденное на полу молоко еще не остыло, посему она открыла мне рот, влила туда немного из банки, а потом уже выпила сама. Изо рта моего тела все сразу выплеснулось, девушка слизала сбежавшую струю, проведя языком по мне. Там, где была дыра от пули, молоко останавливалось, розовело, и уже продолжало свой путь, окрасившись в цвета заката. Вкус его менялся, оно казалось соленым, даже приобретало вкус живого. И девушка знала, что на вкус я жив. Что внутри я розов.
Когда дело дошло до меда, она обмазала им свою грудь, после чего, прижавшись к мертвому телу, обмазала и его. Она заботилась за трупом, будто это был ребенок.
За окном было так тихо, что несложно было расслышать, как зажужжала оса, уже полумертвая из-за схватившего ранней осенью мороза; она ударилась в стекло и упала в траву. Она умерла.
Не нужно было и выходить на улицу, к загону, чтобы понять, что лошадиный труп был съеден до костей. Сестра знала это.
***
Глухонемая не могла больше выносить усталость. Голова ее буквально раскалывалась, а веки сами собой слипались. Она увязала во сне. Порою даже, во дреме, она доходила до реки, где уже пыталась отрыгнуть, но все-таки, ей удавалось очнуться и продолжать вязать.
Долго так еще продолжалось, пока она не вонзила спицы в глаза. Как подыхающая сука, она начала громко и протяжно скулить. С детства старуха не могла сказать ни слова, но теперь все ужасные звуки она извлекала, пропуская со страшным шумом воздух. Так свистят состарившиеся или до смерти избитые собаки. Девушка в бане, испугавшись, заперлась на засов.
Изуродовав себя, глухонемая хрипела, свистела и мычала. Корова, потерянная на лугу, мычала вторя ей. От криков скотины разносилось эхо. Старуха, спотыкаясь, потащилась к выходу. Упав на пороге дома, она поползла по земле, как большая жирная гусеница.
Жирный скользкий червь, который только поедает падаль, который никогда не станет мотыльком.
Она доползла до бани. Во время пути спицы вывалились из вытекающих глаз, отчего стало еще больнее. Глухонемая вскарабкалась, опираясь на дверь. Она громко стучала, но никто не отпирал.
Она стала барабанить в окно, разбила стекло. В окровавленном кулаке подыхающее существо стало месить мелкие осколки. Гусеница срывала с себя одежду, сбрасывала кокон. Но было поздно.
Рвоту, рвоту, я несу рвоту.
И вот, я все вспомнил. Я вспомнил, как моя сестра, еще год назад, разбила окно в желтом доме, растолкла мелко осколки, жевала их в приступе неуспокоения.
Я вспомнил, как она умерла там. Я знаю, что она уже пережила конец. Сначала ужас охватил меня, мысли и чувства стали беспорядочно роиться.
Черви, туман, осколок, червей, червоточина, кровь, чрево, спирт, мозги, падаль, розовое, гниль, молоко, стекло, стекло, красное, стекло, стекало, льет, щекочет, пистолет, синий, убий, лошадь, корова, стекло, глаза.
Когда в сознании все стихло, шума на улице также не было, а старуха спокойно лежала на земле.
Сестра отворила засов. Шел крупный снег. Глухонемая была недвижима, пустые глазницы не выражали ничего. Только потом она рассмеялась, истерически громко, но так же бессмысленно.
Корова вдали не отвечала, слышалось лошадиное ржание.
***
Наступала зима. Тихо было на пустынном берегу. Порою, шумело воронье. Но вдали от хутора Мертвого, где жарко топят баню.
Антон Че
«H. S.»
| Сильней и сильней, |
| • КО | ||
| • РО | ||
| • ВА |
| Кровью доится. |
| Лобызанье блядей, |
| Ах здорово! |
| В узел язык. |
| Вагина. Стык. |
| Бархат кожи. |
| Слюна. |
| Сажа. |
| Рожа. |
| Мычишь, |
| глаза |
| • ЗА | |||
| • КА | |||
| • ТИВ | |||
| • ШИ, |
| Ох. |
| Блядей лобызанье. |
| МЫ — ЗА, |
| Дышим. |
| Вздох-х-х. |
| ම ඥ ණ අ ඉ ෙ බ ළ න ඪ |
| МЫ — ЗА, |
| ВЫ — ЗА, |
| ВЫ — МЯ, |
| СЕ — МЯ, |
| • КО | ||
| • РО | ||
| • ВЫ, |
| ПАСТ-БИ-ЩЕ, |
| ПАУЗА. |
| И пульсации… |
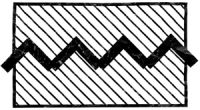
Василий Путилин
«к любимой женщине»
 Жир, DMT, сопрано, хи, всеми, ти, странность трахать, коровы ноздри, Анна Павловна, жид лошади, кодекс, эксплуататор старухи. Умldvdlyы. DMT-DMT! Прелюдии. Подмылась, фу, москвичка. хуй шлюшечки any жопа DMT. Порнография, небеса. Ведро-блядство, срам. xbхbsbaнaфръ. Тварь подмылась.
Жир, DMT, сопрано, хи, всеми, ти, странность трахать, коровы ноздри, Анна Павловна, жид лошади, кодекс, эксплуататор старухи. Умldvdlyы. DMT-DMT! Прелюдии. Подмылась, фу, москвичка. хуй шлюшечки any жопа DMT. Порнография, небеса. Ведро-блядство, срам. xbхbsbaнaфръ. Тварь подмылась.
Шанкр давайка прости протащи наклонности-руна-космос-наклонности.
давила давала сдуру давила давила
давала знала давила давала
давила давила давала давала
двоила давила
двоила
двоила сдуру знала давила
двоила давила
давала знала сдуру
Рубить кефир. Стада бу ёб. Шлюшечки руки лесбийство. Смех возбуждайтесь бе. Таблеточка тварь рученьки хи ногти.
Сяопин штерненхай! М! М! Ваофунь айайай! Ваофунь Немый Сяопин! Айайай ыгылдык! Айайай!
Уроды. Красота снова, Да! Памир.
Диагностика.
Животное начало анально.
Оргазмируйте мрак. Уроды! Сюда оргазмируйте! Гья Система. Осы однорукие. Эх эх связи. Бесстыжие. Сюда кусать. Анально не думать.
Блядь — пепелище — порнография. Мысль — романс стада. Гад лежать-сопеть. Хи. Яйца. Гонорея? Цшцmжmц. Лоботомия! Фу. Кокаин. DMT. Бытность-могилушка. Всеми. Странность, сигареты лесбийство, следует: благостность, губа, участие.
Раздвигай водянистое. Находи, смейся. Нzяпe-Космос. УР. Полеты, полеты. Давайка, пароход, смейся.
Сбеги убий давайка.
Мальчик, идисюда, гены телеграфируй.
Мрак. Ректум хочешь.
Будда-мальчик.
Гноение анально. Ъanhm! Провод, висельник, связи, огромный бы, рентген, гены, воспаление, телеграфируй мрак. Rpсpfc.
YёN*фг.
Молоко, буржуазия, небеса, ноги, следует. Выблядки! Лежать! Видеть хорошо шелест. Лоботомия-ногти. Пожарный-гнусавишь. Trip. Липко. Преобразование, буржуазия, ссора. Трава-молоко-постройка. Rpмc. Тс-с-с! Молоко — чтение. Молчишь, жид. Таблеточка, смех, сифилитики. Лиловое! Погорелец! Лежать! Видеть пусто. Смех Бо. Лоботомия … Потусторонее … Bнъmй. Ногти … возгорание … божинька. Следует. ЁБ. Грязь; благостность; вода кокаин; странности сопеть; рвота сигареты. Жопа. смрад-бытность, скатерть, пусто. Гонорея. Лоботомия. Опера. Ноги, кефир, странность, лесбийство. Поезд DMT. Порнография руки ме шприц. Фи ти. Шелест; Скальпель-скатерть. Срам! Й\йmй. Тварь! Бы! Пусто any участие.
Пепелище. Студень лесбийство. NO одежда. Сарай-туалет. Ебать-колотить.
Антонина Инцест
«Манифест Полиции Шерсти»
Глядя на ту или иную даму, то и дело приходится изучать ее ноги на предмет гладкости, ухоженности и шерстистости.
Чем старше объект, тем более длинные юбки и более плотные колготки скрывают животное начало и лень перед бритьем ног.
Надобно создать особое подразделение, именуемое Полицией Шерсти. Надобно контролировать всех и вся.
Выбритые ноги и легкая шерстка, колосящаяся время спустя после непосредственно бритья, символизируют бунт сексуальности. Необузданность животного начала и неподчинение животного человеческому.
 Стервы должны быть шерстистыми. До́лжно иметь всеобщее желание причесывать означенных стерв. В идеале, в момент соития не должно быть ясно, стерву ли щекочет потусторонняя шерсть, либо стерва щекочет своей шерстию.
Стервы должны быть шерстистыми. До́лжно иметь всеобщее желание причесывать означенных стерв. В идеале, в момент соития не должно быть ясно, стерву ли щекочет потусторонняя шерсть, либо стерва щекочет своей шерстию.
Стерва еще более остервенеет от поглаживания против шерсти и сбросит стервозность в осадок при верном направлении движений.
Весь просвещенный мир должен сплотиться в Полиции Шерсти.
Аминь, товарищи!
Василий Путилин
«Улыбчивый Слюнин»
«Этим веселым солнечным днем».
Именно так было напечатано на листе бумаги, заправленном в старую механическую печатную машинку, что стояла на письменном столе студента Миши Слюнина, начинающего писателя, а также и будущего учителя литературы (по крайней мере, таковым, судя по специальности, должен был он стать).
Так или иначе, на листе было сильно впечатано «Этим веселым солнечным днем», это было начало великого романа, повести, поэмы (Слюнин, пожалуй, сам ничего пока не знал).
Тут, в снимаемой комнате, на окне стояли герани, а под потолком висела репродукция с портрета Байрона, повешенная, если честно, еще до того, как Слюнин сюда въехал.
Миша долго сидел перед печатной машинкой и курил, как паровоз. Старая хозяйка не выносила дыма, потому дверь в комнату была крепко заперта. Иногда Миша начинал писать письма, где говорилось о том, как «гений прозябает в глубинке», или о «метафизических истинах, что ему открываются»; Слюнин не знал, кому эти откровения пересылать, поэтому множество исписанной бумаги поджигалось в пепельнице.
«Этим веселым солнечным днем» — то ли название шедевра, то ли его начало — фраза долго стояла одинокой.
«Этим веселым солнечным днем».
Вечером студент покинул квартиру. И долго отсутствовал, вероятно, ища метафизических истин в соседней рюмочной. Хозяйка спала, когда он под утро ввалился в жилище. Мальчик был пьян, лез обниматься да читал стихи; для старушки это виделось очень трогательным, посему она, одетая в изорванный ночной халат, долго топталась в прихожей, отгоняя расстроенного Слюнина, желавшего ласки и любви.
Потом Слюнин уединился в спальной.
Вернувшись за машинку, все еще озаряемую теми самыми «веселыми» лучами солнца, он стал в экстазе колотить пальцами по клавишам. Произведение было, действительно, эпохальным.
Сначала, начав с того, что солнечный день кончился, а солнце закатилось, он продолжил двумя изнасилованиями, массовым суицидом, страданиями и алкоголизмом.
И все уместилось на паре десятков листов.
Слюнин так и заснул, уткнувшись носом в клавиши. На утро ничего не помнилось.
Неделю спустя он увидел в кухне рыбу, обернутую бумагой с машинописным текстом. Пару страниц забытой рукописи он освежил в памяти. Сложно сказать, ощутил ли он какое-то божественное откровение, но следующее письмо вникуда начиналось со слов «известно, что все великие страдали маниакально-депрессивным психозом».
И кажется, выписывая эти слова, Слюнин не улыбался.
Василий Путилин
«φ»
 Баронесса наркозависима. В течение шести лет, трех месяцев и одного дня Наталье Аркадьевне снился один и тот же сон. Дама в летах, к отходу она готовилась за несколько часов. Когда солнце садилось, баронесса уединялась в спальной, где, сидя перед большим зеркалом, ожидала, когда придут девки.
Баронесса наркозависима. В течение шести лет, трех месяцев и одного дня Наталье Аркадьевне снился один и тот же сон. Дама в летах, к отходу она готовилась за несколько часов. Когда солнце садилось, баронесса уединялась в спальной, где, сидя перед большим зеркалом, ожидала, когда придут девки.
Затем приносили железную банку. Наталья Аркадьевна подолгу пудрила ноздри.
И девки раздевали ее. Когда старое и гадкое тело оставалось неприкрытым, баронесса кружилась перед зеркалом. Частенько девкам тоже приходилось раздеваться. Напудренная баронесса любила шлепать молодые тела. Розовые округлости свежего мяса, что вращались вокруг бледной коровьей туши, терпели щипки и укусы.
Когда ритуал завершался, Наталья Аркадьевна ложилась в постель. Тут девкам, каждый день поневоле исполнявшим постыдные роли, дозволялось накинуть платья.
Наталья Аркадьевна знала, что ей приснится обед. Длинный стол, за которым сидят незнакомые люди. Как всегда, из кухни принесут блюдо, накрытое крышкой, и поставят прямо перед баронессой.
Крышку в скорости снимают, клубит пар, на блюде лежат красные трусики и черный бюстгальтер. Баронесса в смущении. Весь стол незнакомцев пялится на нее, Наталья Аркадьевна сидит прямо во главе. Она цепляет белье вилкой, хочет уже положить его в рот, но слышится оглушительный хохот.
Рядом, по левую руку, усатый мужчина лихо расправляется со скомканными трусами. Мелкие кусочки ткани отщепляются ножом, незнакомец энергично жует белье. Баронесса неловко сваливает все обратно на блюдо, перекладывает трусики в тарелку, где уже орудует ножом. И, вроде бы, смех утих. Но усатый, дожевав трусы, презрительно выплевывает черную пуговичку. И прямо в тарелку баронессы.
С усов хама свисает полосочка белья. Он не замечает ее. Наталья Аркадьевна сама хотела бы указать на крошево клетчатой черно-белой ткани. Набирает воздух, чтобы выкрикнуть презрительное «фи!». Воздуха нет, баронесса задыхается. В глазах темнеет, и она хватает со стола вилку и тычет ею в глаз усатого.
Вилка была рыбной. Когда-нибудь Наталья Аркадьевна умрет во сне, не стерпев стыда и осмеяния. Но если сон завершится, то на утро придут пудрить ноздри.
Лихт Б.
«Богоматерь»
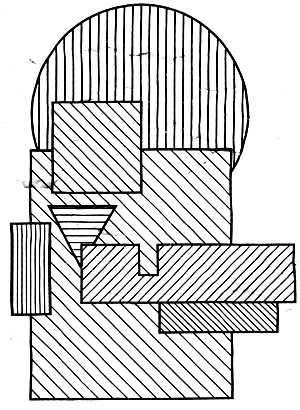
Василий Путилин
«Лизавета»

Иллюстрация — Лихт Б., «БЛRДЬ», бумага, авторучка, фломастер.
9 мая 1899 года.
Ночью мне виделась Елизавета Федоровна. Блядища. Она была одета, как одеваются только в домах терпимости, даже стойкий запах парфюмерии отчетливо ощущался. Помню его и после сна: сладкий, удушающий, до возбуждения и до рвоты. Кажется, что он и в подушку постели въелся. Лежал утром и не мог понять, отчего так дурно пахнет постель. Все вокруг пропахло.
Лизавета стояла в богато убранном будуаре. Розовые обои, розовое бельишко постели, рюшечки, кружавчики. Слюни.
Вошли двое мужчин в кожаных куртках, молодые евреи с черными бородами, в маленьких очках с кругленькими линзами. Похожи друг на друга, будто близнецы. Чем-то напоминали Эрсбурга.
— Мы за вами.
Лизавета была с ними крайне обходительна. Из графина она налила стакан воды, предложила визитерам утолить жажду. Визитеры были грубы. Ясно было, как эта грубость незнакомцев поражала проститутку.
Один из них выхватил стакан, плеснул им водой в лицо Елизаветы Федоровны. Почти беззвучно усмехнувшись, расплылся в улыбке, глядя на расплывающуюся по мокрому лицу красоту. Пудры, туши, помады — все стало сплошной лужей. Пустой стакан был одет на графин. Второй ударил ее по лицу ладонью и вытер подмоченную руку о подол дорогого платья. Лизавета рыдала. Кричит:
— А-а-а! Маменька! Изверги!
Схватив волосы, убранные в роскошную и дорогую конструкцию, визитер потащил проститутку к выходу. Рот зажал ладонью.
Наполовину полный графин и стакан были также взяты, вторым конвоиром.
Втроем вышли. Когда они спускались по лестнице заведения, Лизавета громко орала, кусала и жевала пальцы, коими зажимался рот, ударила конвоира коленом ниже живота. Топот, ор, визг. Казалось, не слышит никто. Так ее вывели из дома и под руки протащили по темной набережной до здания больницы.
Там также дежурили молодые евреи. Трое курили у входа, о чем-то весело беседуя. Ночная больница встречала Лизавету хохотом, плевками и окриками.
Пунктом назначения была маленькая комната на первом этаже, где пахло спиртом и эфиром. Темно.
Операционная. Лизавета, униженная, мокрая, напуганная, замерзшая, дрожала до стука челюсти. Из мрака появился старик в белом халате. Зажег свечу. Надев перчатки, сделал жест к столу, куда истязатели уложили Лизавету. Руки и ноги ее были закреплены ремнями.
Старик (очевидно, хирург) сам задрал юбку Елизаветы Федоровны, сорвал все трусики-чулочки-подвязочки. В белом халате, он был похож на ангела небесного, впавшего в маразм и ампутировавшего себе крылья. Лишними тут казались черти в черных куртках, в чертенизме которых маразма не обнаруживалось напрочь.
Старик противным голосом, желая пошутить, прокрякал:
— Горит свеча, чуть-чуть колеблет тени…
Маразм и мракобесие. Ангел достал ржавый нож (который назвать скальпелем было сложно из-за чудовищных размеров, ржи и налипшей грязи).
— Село до ставней вьюги замели…
Елизавета Федоровна находилась в таком положении, что не могла наблюдать за ходом операции — она лишь ощущала боль и страх перед бескрылым маразматиком, что принимался обрабатывать ножом самое ценное, что может быть у обитательницы дома терпимости.
Лизавета сначала обмочилась, пустив лужу со стола на пол, а затем и потеряла сознание.
Ангел сделал так, что лужа, расползшаяся по полу, из бледно-желтой стала густо-красной. Он свистел под нос стихи, где было что-то про «ось Земли», «России силу» и черт знает еще что.
На утро ей учтиво предлагали большой граненый стакан с мутной малиновой водой, где на дне лежал срезанный клитор. Елизавета Федоровна громко кричала. Когда грязную воду вместе с содержимым выплеснули ей на грудь, она так и не смогла смахнуть с себя обрезок плоти.
Связана.
По рукам и ногам связана.
***
Признаться, когда я сидел за письменным столом и излагал сновидение, я эякулировал. Поделом шлюхе.
А когда я пересматривал старые газеты, что доставили вчера, я обнаружил на одном из листов бледный отпечаток типографской краски (от какой-то другой страницы?), который при помощи зеркала удалось прочесть: «С 1 марта 1918 года отменяется право частного владения женщинами, достигшими возраста от 17 до 32 лет».
Бред и порнография, порнография и бред.
Горит свеча, чуть-чуть колеблет тени.
Село до ставней вьюги замели.
В одной из изб у письменного стола, за книгами и тетрадями, остервенело мастурбировал некто видевший престранный сон.
Реклама на lenin.ru:
Русские Боги |
Мы русские. Мы думаем сложнее.
Король Ужас, Слизка и 25 Мартин Борманов
© copyleft 2005 — 2006, Василий Путилин <rozoviy.slon@gmail.com>
